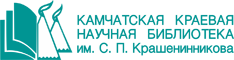В последнее время Роберт Савельевич Моисеев стал необычайно востребован: его постоянно приглашает пресс-центр «Выборы-2000. Новая Камчатка» для участия «в круглых столах» на самые разные темы: обсуждаются ли проблемы Петропавловска, военнослужащих или вопросы сохранения биоресурсов Камчатки. Такая разносторонность интересов вполне закономерна: Роберт Моисеев является директором Института экологии и природопользования, чья деятельность охватывает все стороны жизни области, в том числе и социально-экономическую. Мог бы, конечно, Роберт Савельевич от участия в «круглых столах» отказаться, сослаться на занятость и отсутствие времени (тем более что так оно и есть), но ни разу этого не сделал — потому что понимает важность и значимость подобных акций.
Мы попросили Роберта Моисеева рассказать о себе, о своей жизни и работе, о том, что волнует. Так и сложился этот монолог...
Откуда есть пошел...
Я родился в 1937 году в Петропавловске-Камчатском, в роддоме № 1, которого сейчас уже нет, но в котором родились все, кто жил в Петропавловске-Камчатском в то время.
Наверное, чтобы понять мое — такое трепетное — отношение к городу, нужно знать, где мне удалось пожить: я жил в центре, на улице Красинцев, в одном из домов, которые стоят и поныне, поэтому прекрасно знаю, что здесь было раньше. Например, я понимаю, что мемориальному камню здесь совершенно не место, потому что там стоял амбар купцов Чуриных, в котором мы играли и прятались от дождя, и никаких расстрелов здесь не было и в помине. Жил я на улице Вилюйской — тогда городские еще дрались с совхозными; жил на улице Максутова и зрительно помню всю историю возникновения стадиона «Спартак»... Жил и на километрах. Работая потом в управлении главного архитектора города, научился город осязать: я воспринимаю его кожей. Не разумом, не сердцем, а всем своим существом...
Уехать из города у меня не получается. Приходилось жить в других местах, но долго я там находиться не мог, потому что человеку, выросшему в такой обстановке, обязательно нужны какие-то высотные ориентиры в его жизни: что-то горное, выразительное, неоднообразное, разноплановое. Это впиталось в меня настолько, что расстаться с Камчаткой я уже не смогу.
Хорошо помню только маму и бабушку. Дед был, как сейчас установлено, репрессирован. О нем в семье разговоров долгое время не было, при мне во всяком случае. Такая ситуация была и с отцом, так что воспитывали меня одни женщины. Мама, кстати, безвыездно жила здесь с 1910 года, то есть наша семья имеет на Камчатке почти вековую историю...
В 16 лет уехал поступать в институт: сначала хотел в Москву, в знаменитый и очень модный тогда МИФИ, заниматься ядерной энергетикой — туда шла элита страны, прием документов был объявлен заранее, поэтому я просто не успел; поехал в Ленинград, поступил в химико-технологический институт, учился там. Можно было бы рассказать о своей диссидентской молодости, но делать этого не буду, потому что все это было несерьезно, по-детски; на этом многие сейчас спекулируют.
Конечно, тогда я так не считал, меня очень задели события в Венгрии, я даже что-то развешивал в институте по стенам в знак протеста. Но нашлась умная преподавательница, которая прошлась по этажам и аккуратно все сняла. И с моей, и с ее стороны это была нормальная человеческая реакция. Я не люблю, когда любые события начинают односторонне, однобоко освещать, педалировать, что-то «забывать». Так нельзя делать: история — сложная вещь, ее переживаешь один раз, и когда переживешь, понимаешь, что все это непросто.
Пришлось перевестись на заочный факультет и уехать на стройку химического комбината в Усолье-Сибирское, откуда аккуратнейшим образом был призван в армию, так как накануне Московского молодежного фестиваля проходила зачистка «неблагонадежных» студентов. Таким образом, мы из разных концов страны неожиданно для командиров прибыли в Читинскую губернию, нести воинскую службу. В результате в армию тогда попали и слепые, и глухие, и со сломанными ногами, и не подходящие по возрасту. После службы в армии я вернулся домой, на Камчатку. И самое яркое воспоминание в день приезда: начало сентября; дует свирепый ветер, Мишенная сопка была не залесенной, так как во время войны там срубили все, а дожди все смыли; и вот ветер выдувает остатки земли, и над городом растянулся огромный пыльный шлейф... Потом постепенно все пришло в норму, и теперь, глядя в окошко, можно рассуждать о способности природы Камчатки самовосстанавливаться...
Этапы большого пути
После приезда попал на работу в проектную организацию, изыскательское подразделение. Потом уехал в Ленинград восстанавливаться в институте, но уже в политехническом, по специальности «неорганическая химия», после чего работал в Мурманской области, на комбинате «Североникель». И, отработав там год, вдруг понял, что это — не мое.
Вернулся на Камчатку, несколько лет отработал в управлении главного архитектора города; поступил в НИИГАИК — Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, но почувствовал, что там тоже — не мое, и поступил в юридический институт, который закончил в 1970 году, исполняя уже обязанности главного архитектора города.
Это была очень интересная, живая работа, хотя и отнимала много сил. Я узнал необычайно много, работа нравилась мне еще и потому, что там было много неизвестного. Проектирование городов — еще пока не наука, это творчество, а мне хотелось «посадить» это на какие-то рациональные основы. Но это властям не понравилось, и, учитывая, что архитектурного образования у меня не было, появился удобный повод с этой должности меня снять. В нашем городе на этой должности больше трех-четырех лет еще никто не удерживался. А города живут тысячи лет, по своим закономерностям, своим правилам...
Я остался работать в этом же управлении и почти с теми же обязанностями, но постепенно меня потянуло к научной деятельности. И в 1978 году, с огромными трудностями из-за нежелания властей меня отпускать с этой работы, я ушел в научно-исследовательское учреждение. Начал с должности старшего научного сотрудника, занимался населением, писал диссертацию по закономерностям формирования населения районов Крайнего Севера — это очень специфичный процесс...
Нелирическое отступление № 1. О населении
То, о чем, я писал 20 пет назад, жизнь подтверждает и сейчас, причем не только в нашей стране, но и в других странах мира. Для примера: в районы с таким уровнем жизни, с такими закономерностями развития и с таким уровнем привлекательности как здесь, едут, как правило, жители городов, а не сельских местностей (они чаще переезжают на близкие расстояния). Поэтому Север в основном заселен людьми с высоким уровнем образования, интеллектуального развития и профессиональной подготовки, и это наложило свой отпечаток на всю историю развития советского Севера.
Это продолжает оказывать свое действия и сейчас: одним из главных факторов развития Петропавловска-Камчатского является сосредоточенность в нем населения с очень высоким интеллектуальным потенциалом. У людей изначально заложено стремление получить высшее образование, и именно на этом спросе основана такая уникальная ситуация: у нас высших учебных заведений больше, чем в Токио. Где еще в России вы найдете город, в котором на 200 тысяч человек приходилось бы почти двадцать вузов? Причем со статусами академий, университетов? И примерно столько же средств массовой информации.
Жители Севера постоянно повышают свой уровень профессиональной подготовки, и специалисты, уезжающие на материк, обязательно занимают высокую социальную ступень, потому что они больше подготовлены к принятию самостоятельных решений, им свойственна решительность в поступках, практическая верткость ума, умение найти выход из любой ситуации. Именно поэтому жители Камчатки на протяжении десятилетий устойчиво заселяли Москву и прекрасно там адаптировались...
В процессе написания диссертации мне пришлось глубоко изучать основы народонаселения, этнографии, региональной экономики, формирования кадров рыбного хозяйства и многие другие. Все это отнимало и время, и силы, но я убежден, что знания не пропадают: все, что бы ты ни узнал, когда-нибудь тебе пригодится.
Вот сейчас у нас на глазах возникает новая наука — регионоведение. Не было такой науки. И сейчас многие задают вопрос: а зачем она нужна вообще? Я бы тоже мог задавать такой вопрос, если бы занимался только региональной экономикой, но так как я занимался еще и политологией, и геополитикой, и населением, и национальными вопросами, я понимаю, что эта наука должна помочь рационально организовывать региональную политику в нашей стране, которая (политика) запуталась до невообразимого состояния...
О концепции
Для нашего института естественна разработка концепции и прогноза развития и области, и города, и отдельных отраслей хозяйства. Начали мы с разработки концепции природопользования Камчатской области, потому что это был один из самых острых вопросов в конце 80-х — начале 90-х годов, дискуссий было тьма. Люди не понимали сам смысл слова «концепция» и писали, например: «В моей концепции туристы должны ходить только по тропинкам, а костры жечь только в отведенных местах».
Против нашей концепции природопользования выступили все. Ее не поддержал никто. А там было зафиксировано, что на Камчатке к этому моменту почти исчерпал себя тот тип природопользования, который реализовывался ранее, и наступил период перехода к новому типу. Сумеем мы сделать это рационально — хорошо, не сумеем — разрушим природу. Но рыбники нашли там какое-то ущемление для себя, лесники — для себя, геологи — для себя, а всем хотелось полной свободы. Но администрация согласилась с нашей концепцией, потому что у администрации подход комплексный. И жизнь подтвердила правильность этой концепции, и сегодня, спустя семь лет, на нее ссылаются, на нее опираются, ее используют в качестве аргумента. Пока изъянов в ней нет.
Нелирическое отступление № 2. О газоснабжении и политиканстве
Кстати, идея газоснабжения Камчатской области возникла вовсе не в начале 90-х годов, а еще в 50-е годы, и именно с этого периода (как мы не ругаем Советскую власть) вкладывала очень большие деньги в нефте- и газоразведку на Западно-Камчатской низменности — именно тогда были утверждены запасы газа, которыми мы сейчас пытаемся пользоваться. А то, на сколько лет его хватит, это предмет спекуляции, потому что эта тема уже не энергетическая, не экологическая, не экономическая, а политическая и даже политиканская.
Моисеев Р. С. «Расстаться с Камчаткой» : [О себе и своей работе рассказывает дир. Ин-та экологии и природопользования Р. С. Моисеевым]. // Вести-Дайджест. — 2000. — № 42 (13-19нояб.). — С. 6.
Автор — Р. С. Моисеев